 |
Галерея На Чистых Прудах |
Москва, Чистопрудный б-р, д. 5. Тел. +7 (985) 928-85-74, E-mail: cleargallery@gmail.com
| Главная Страница |
| Проекты |
| Художники |
| Статьи |
| Журнал СОБРАНИЕ |
| Видео |
| Контакты |
| Друзья Галереи |
 |

 |
Партнеры:
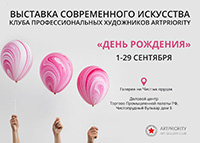
Александр Кацура "МАНИФЕСТ ПОСТАРЬЕРГАРДА"
Рисование картины, создание живописного полотна – это попытка вырваться за пределы этого мира (привычного, сдавленного, «падшего»), уйти в мир по виду нередко очень близкий, вот он – рукой подать – со знакомыми предметами и людьми. Но одновременно – и более далекий, более интересный, более загадочный, порою откровенно запредельный. Другими словами, это попытка создать рядом еще один мир и открыть в него окно. Дети делают это естественно и самозабвенно в соответствии со своей творческой человеческой природой. Взрослея, большинство забывает это прекрасное естественное чувство. Те, кто не в силах забыть, становятся художниками (часто вне всякой зависимости от полученного образования).
Итак, картина, впрочем, как и всякий свободный рисунок, – окно (в мир другой, как правило, – более высокий по сравнению с окружающей нас жизнью; нередко – равный (как простое отражение жизни), но иногда – в мир более низкий, более тёмный, напоминающий преисподнюю). В этом смысле понятен недолгий (два-три столетия), но жаркий спор между плоским реализмом, доходящим до натурализма (буквальное отражение этого мира) и реализмом пластическим, творческим, пытающимся отыскать в мире этом черты и промысел мира горнего (или – через мучительное, болезненное противоречие – мира падшего, опустившегося чуть ли не до уровня ада), то есть того реализма, который готов превратиться в надреализм и сверхреализм.
То же самое, но с большим основанием, можно сказать о христианской иконе, принципиально назначенной открывать окошко в мир высший. Впрочем, всякая картина – в известной степени икона, равно как всякий свободный (не прикладной) текст – молитва (разговор с Небесами).
Созерцание картины – это процесс смотрения, близкий к созиданию предлагаемого мира, но с меньшими творческими затратами. Хотя иные зрители по остроте переживания могут сравняться с художником. А совершенно отдельные могут и обогнать художника. Равно как отдельные редкие читатели книг могут превзойти по глубине переживания самого автора текста, как бы велик этот автор ни был. В этом нет ничего странного. Наоборот, это замечательно! Просто бывают гениальные зрители и гениальные читатели. Для них-то в основном и стараются художники. Но и для себя тоже.
Вообще говоря, искусство – это вторая религия, вторая вера. А в иные эпохи она становится первой. Не случайно в России (особенно в период упадка церкви) любили выражение «святое искусство». Считалось, что и жизнь ради искусства положить не жалко. Что ж, в искусстве – та же борьба чувств, взглядов и мнений, но только без смертоубийства и костров. Впрочем, в ХХ веке и до этого докатилось. Особенно в нашей стране. «Поэзию у нас ценят, – говорил Мандельштам. – За неё убивают». Но убивали не только за поэзию. Накал и шквал огня был – страшнее, нежели у Великого инквизитора времен самых суровых аутодафе.
Впрочем, эти времена позади. Вместе с давно алкаемой свободой на художника навалились эстетическая невнятица, диктат моды и «дружеские» объятия рынка, на самом деле унизительные. Что делать в этой ситуации человеку, ощущающему творческий огонь в душе? Как и для чего работать? Куда идти? С кем и к кому? Сбиваться в стаи, чтобы легче добыть деньгу и нестойкую славу? А ведь настоящий художник, несмотря на неумолчный шум вокруг, всегда одинок («Выхожу один я на дорогу…» – вслед за Лермонтовым это может повторить почти каждый творец.) Группы, объединения – это так, для отвода глаз или чтоб избавиться хоть на время от давящего одиночества.
Учиться – у старых мастеров, у наставников и товарищей – нужно и важно. Это простая и суровая правда. Но еще важнее уметь забыть сковывающее тебя учение, от кого бы оно ни пришло. Уметь отбросить его, пока оно не смяло тебя (А ведь сколько молодых талантов загубили в различных академиях и школах, обрезав ученикам крылья и приковав их к проверенному десятилетиями и веками ремеслу. Да так приковали, что галерники-ученики потом всю жизнь благодарили своих разрушителей.). В многомерном мире нужно учиться слышать самого себя и голос Сверху. Других учителей быть не должно. («Ты – царь. Живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум… Ты сам свой высший суд…»)
Но есть и другая сторона процесса. Современное изобразительное искусство (эпохи постмодернизма и даже пост-пост-модерна), выйдя на весёлый простор эстетической неразберихи и вседозволенности, оказалось во многом побежденным смежными секторами творчества, прежде всего фотографией и кинематографом, но также (что более принципиально) театром и литературой, точнее – псевдотеатром и балаганом (именно отсюда возникли и пошли в тираж перформансы, инсталляции, всевозможные акции и всё такое…) Без словесной интерпретации, без надуманной и почти всегда крикливой театральной мизансцены (чем острее и парадоксальнее, тем лучше) уже почти ничего не работает. Хитрое левое полушарие победило простодушное правое. Это частенько принимается на ура любителями слова, логически связного дискурса либо же театрального искромётного действа, но оставляет в недоуменной тени любителей живописной пластики, не требующей никаких слов. Впрочем, последние утешаются тем, что ходят по музеям, разглядывая в тишине (и подальше от словоохотливых экскурсоводов) работы устарелых традиционалистов – Кандинского, Пикассо, Шагала, Клее, Филонова и прочих…
Итак, постмодернисты поют, приплясывают, развешивают бусы и бранзулетки, раздеваются догола, кричат петухом. Это занятно и нисколько не опасно. Но в итоге вышло так, что лист бумаги и холст, карандаш и кисть, образ и тишина остались в распоряжении обветшалых традиционалистов – скромных до провинциальности последователей академической живописи и её псевдореалистических и псевдомодернистских отклонений (включая уличное творчество холодных художников). Но это всё воспринимается как обветшалый фон, на сером полотне которого нет-нет, да и вспыхнет звезда какого-нибудь нового придумщика, хулигана, шарлатана (придумайте ему название сами). Сама по себе вспышка эта может быть забавной, но чаще всего ведет в никуда.
Но даже самому оголтелому современному пост-пост-модерну неплохо бы вернуть проверенный столетиями простой и здравый материал – бумагу, холст и краски. Вернуть мазок и чувство цвета, вернуть остроту линии и острое чувство хождения за горизонт на пространстве белого листа.
Именно в этом смысле можно говорить о востребованности ПОСТАРЬЕРГАРДА. Смысл термина прост. Арьергард в переводе с французского означает тыловое охранение. Что ж, сейчас в искусстве самое время охранять тылы. Некие принципиальные основы. Но не в духе бескрылого консерватизма, а так, чтобы звенела весёлая творческая струна и был открыт путь к любой новизне. Вот почему нужна приставка ПОСТ, ибо речь идёт не просто об охране старого, но о новом поиске действенной связи старого и нового.
Чем отличается постарьергард от постмодерна и поставангарда в изобразительном искусстве? По моему разумению, постарьергард – это направление, которое (не столько пока реально, сколько потенциально) идейно и энергетически возвращается к истокам, к великому времени первой половины ХХ века, когда революционеры в живописи (шире – в искусстве) были настоящими художниками, полными огня и внутренней правды. Не повторять их, не быть эпигонами, искать и находить своё – всё так! Но при этом быть в союзе, в гармонии с их творческим счастьем, с их детской тягой к слому, но не ради разрушения как такового, а из стремления пробраться куда-то дальше и выше, не теряя связи с глубинным понятием красоты (той силы, которая призвана спасти мир). Фактически нужно заново подхватить ту эстафету, которая (скорее всего, из-за страшной войны середины ХХ века и общего помрачения духа) была слабо подхвачена или совсем заброшена художниками второй половины века. И этот подхват может оказаться по-настоящему революционным. Он может вновь соединить распавшуюся цепь времён, заново собрать разбитый позвоночник ушедшего века и не дать развалиться позвоночнику века наступившего. Между прочим, есть такое выражение – арьергардные бои. В искусстве, да и во всей нашей культуре эти бои сейчас идут, и бои эти нешуточные.
У постарьергарда вроде бы есть один минус, который, если приглядеться, превращается на деле не только в нейтральный знак, но даже в некий плюс. Речь идет о терпимости к традиции. Если кто-то в манере XIX века пишет нежные акварельные пейзажи, то чем это плохо? Надо ли с ним сражаться? Зубастый авангард это делал. С «парохода современности» он был готов яростно вышвырнуть всё ему не близкое. Он призывал «сжечь музеи». Постарьергард будет толерантнее. Это будет не бесформенное и беззубое «пусть цветут все цветы», нет. Но доброжелательный разговор-спор, но живая конкуренция будут допустимы с любыми направлениями и даже выкрутасами.
Беда академической, сугубо реалистической живописи заключалась в том, что она максимально далеко отошла от идеи иконы (принципиального открытия христианской эстетики), то есть отошла от идеи окна, прокола в духовный мир (подойдет даже и грубоватое слово дыра). Дыры (даже малой форточки) у академиков, триста лет оттачивавших ремесло, не стало, она затянулась, заросла, покрылась густыми слоями пыли и тлена. Ремесло крепло, покрывалось самодовольным глянцем, а дыра испарилась. Представители авангарда на переломе XIX и XX веков (русского авангарда в особенности), порою в полном пренебрежении к живописной технике, к въедливому ремеслу, восстановили эту идею окна-прокола, но ненадолго, спустя полвека всё опять покатилось куда-то не туда. Обывательский, падший мир вновь победил художника. Рынок и тонко-грубо-ловко работающие на него законодатели моды – критики, кураторы, продюсеры, торговцы эстетическим товаром – оказались сильнее.
«Квадрат» Малевича был отчетливой и отчаянной попыткой новой иконы в эпоху открытия черных дыр, но дурацкие, профанные споры вокруг него совершенно утопили эту творческую мысль-прорыв. Почти то же самое произошло с другими великими новаторами начала ХХ столетия. То, что их пластические открытия были присвоены демократическим театральным плакатом, разбежались по майкам и футболкам, было неплохо и свидетельствовало о победе их эстетики, но, с другой стороны, сама суть их открытий утонула в информационном шуме. Острый рисунок Пикассо, посаженный на сувенирную керамическую кружку, вряд ли кого натолкнет на идею о новой иконе, на идею прокола в иное пространство. Хотя, может быть, и натолкнет. Не будем столь ригористичны.
И всё же!
Назрело ли время для нового поворота-разворота в изобразительном искусстве, сравнимого по масштабам и глубине с событиями столетней давности, когда среди прочего засверкал неведомо откуда явившийся русский авангард? Но ответить на этот самим временем поставленный вызов могут только художники, и не словами своими, а делами – рисунками и картинами, пластикой и объектами.
В связи с разворотом к традиционному, старому авангарду (парадоксальным образом через движение постарьергарда, через внимание к тылам, к глубинным основаниям искусства) вновь встанут (по-новому топорщась) вопросы о пространстве, линии, свете, цвете, времени, мгновении и вечности, о вещи, о предмете, о лице человеческом, о глазах и лучах, о грехе и судьбе человека, о мистической эманации, исходящей от рисунка и полотна.
1. Пространство. У египтян оно было одно (плоское, как утюгом разглаженное), у древних греков другое (скрученное по круглому боку амфоры), у открывших перспективу европейцев третье – гулкое, архитектурное. Но сейчас мы знаем, что реальное пространство – многомерно (потенциально – бесконечномерно). Художник в этой связи оказался озадаченным, но и совершенно свободным. Один из ответов этой свободы – возвращение к плоскому рисунку (наиболее простому, но и наиболее загадочному, богатому для ассоциаций). Линейная перспектива сковывает, сажая нас в трехмерный ящик, как в тюремную камеру. Не зря православная икона не поддалась, столетиями хранила принцип обратной перспективы как попытки вырваться из ящика, по меньший мере разворотить его). При взгляде на пространство с точки зрения его измерений обычно мы видим восходящий путь – точка, линия, плоскость, объем. А что дальше? Что там – выше объёма? Можно вернуться к плоскости, даже к отдельным линиям, можно гнаться за высокими измерениями, мечтать о бесконечности измерений. Кстати, бесконечна ли Вселенная? У астрофизиков тут большие сомнения. Гениальный математик Анри Пуанкаре мог догадываться, что наш трехмерный мир – это всего лишь граница между более высокими мирами, то есть тонкая трехмерная плёнка, натянутая на страшный в своей объёмности четырехмерный шар. Для нас, живущих внутри этой плёнки, она, разумеется, бесконечна (мы вольны двигаться, куда хотим, и нигде не упремся в стену. Наш мир нигде не заколочен досками, говорил Гегель). Для внешнего же наблюдателя из более высокого пространства она, вселенная наша, может выглядеть смехотворно маленькой и болезненно тонкой (как, скажем, для нас – сфера, то есть двухмерная поверхность обычного шара). («Как они там умещаются, бедняги?» – думает этот четырех или пятимерный наблюдатель, сочувственно усмехаясь). Этой мысли в ее строго математическом представлении была посвящена знаменитая гипотеза Пуанкаре, не столь давно доказанная питерцем Григорием Перельманом. Итак, мы – жители тонкой плёнки. Мы – жители вечного края. Мы – всегда на краю. На краю бездны четвёртого, пятого и так далее измерений, хотя обычно этого не осознаём. Художники и поэты чувствовали это всегда. Испытываем ли мы упоение от этого открытия, от развернувшейся бездны? В любом случае, для художника это – материал и пища для размышлений или пластических ассоциаций. Возможен ли прокол в более высокий (по размерности) мир? Возможно ли проникновение в параллельные вселенные (Эвереттовы миры, которые, похоже, вполне реальны)? Возможны ли полеты туда? Для художника – возможны. Уже сегодня возможны. И вчера были возможны. Именно потому, что он художник. Этому учили нас Пуанкаре, Эйнштейн, Бергсон. И ещё учили этому нас, что, полагаю, для художника более значимо и звучно, Босх и Брейгель, Эль Греко и Сезанн, Пикассо и кубисты, Кандинский и Челищев, Малевич и Чурлёнис, Филонов и Клее. И некоторые тонко чувствующие поэты учили («И, уцепясь за край скользящий, острый, /И слушая всегда жужжащий звон, – / Не сходим ли с ума мы в смене пёстрой / Придуманных причин, пространств, времён…» А.Блок). Итак, деформация предмета на полотне и самого пространства этого полотна имела место и в старой живописи. Но в начале ХХ века это явление стало повальным. Художник мысленно и образно выходил на край мира, а там ведь нет и не может быть линейности, там всё искажается, как в изогнутом зеркале, как в гравитационной линзе. От этого острого ощущения, рожденного чувствительной душой художника, и пошла массовая деформация вещей и пространств (да еще в обстановке безумной сутолоки технического движения в ставших тесными городах – автомобили, телефоны, аэропланы, кинематограф и прочее). Конца и края этому процессу не видно. Но тут начинает действовать противоположный принцип (напоминающий принцип Нильса Бора о неизбежном возврате к классическому языку физики после блуждания по квантованным мирам). Как англичанин-путешественник мечтает вернуться после Африки или Тибета в свой уютный лондонский дом с камином и пледом на кресле, так и художник, а вслед за ним и зритель, имеет право после блуждания по мирам и пространствам, утонуть глазами и душой в натюрморте Шардена или пейзаже Констебля, точнее, в их современных воплощениях..
2. Свет. В смысле света Рембрандт или там Вермеер нас кое-чему научили. Но ХХ век властно вмешался. Мало того, что кубизм отменил перспективу и вернулся к плоскому пространству (правда мелко изрытому, надорванному и словно бы вспаханному), но он и со светом по-своему обошелся. В кубистическом полотне свет струится отовсюду и ниоткуда, каждый кубик (деталь) имеет свое освещение. Отсюда исчезновение тени. Она то ли исчезла, то ли раздробилась, мелко и вполне мистически раскроилась на клочки. Не случайно проницательный скульптор Жак Липшиц сказал: «Кубизм не школа, не эстетика, даже не предмет, а новый взгляд на Вселенную». Это была правда. Беспредметная живопись добила эту ситуацию. Всё отлетело и улетело – и пространство, и свет. Остались только форма (линия) и цвет. В так называемом тригонизме, или, короче, тригоне, – нынешнем стиле, которым я иногда пользуюсь, как и в кубизме, плоскость и свет – главное. Луч света (конус), спроецированный на плоскость, имеет форму треугольника. Свет бежит отовсюду и ниоткуда и определяет множащиеся, пересекающиеся треугольники, словно развернутые лучи. Если на полотне есть персонажи, то их взоры подчиняются этой же форме – треугольному лучу. Они взирают на мир лучами и вбирают в себя идущие извне треугольные лучи, как и подобает плоским проекциям жителей многомерных пространств.
3. Цвет. Цвета – пасынки света. Он по прихоти своей в призмах и каплях дождя разбивается на них, отдельных и радостных, чтобы потом, высохнув, сурово собрать их назад в белый кулак. Для художника итогом выступает начало – белый лист или белый холст. А уже потом начинается схватка. Борьба и согласие цветов – это семейная распря. Особенно остро воюют зеленое с красным. Как жарко воспринимали эту войну Сезанн и Ван Гог. Война эта сотрясала некоторое время отдельные мазки и целые фрагменты на холстах пуантилистов, фовистов, потом перекочевала на полотна Бубново-валетцев, но уже по-своему, со славянской ярмарочной красочностью. Борьба черного и белого – это выше, страшнее, даже судьбоноснее. Вроде как Бытие и Ничто. Тут в хор и спор отчетливо вмешались графики. Графика всегда загадочно мрачна. Даже самая весёлая, гротескная всё равно – сурова.
4. Время. Рисунок и живопись отличаются от всякого прочего искусства почти абсолютной выхваченностью из потока времени при восприятии. Художник может писать картину четверть века, но зрителю почувствовать удар от нее – достаточно одного мига. Это потом можно рассматривать часами и годами, впитывая детали и события. То же и с рисунком, набросанным за считанные секунды. Схватить взором его можно мгновенно, а рассматривать – всю жизнь (бывают рисунки, которые того стоят). Иные художники не просто приняли эту застылую неподвижность как неизбежную данность, но даже искали способ усилить этот мёртвый эффект. Особенно это удалось итальянцу Джорджо де Кирико и другим представителям «Метафизической живописи», на холстах которых мраморные бюсты и бледные бананы спят мертвецким сном. А вот в кубизме наоборот (как, смею думать, и в моих тригонистических опытах) – на полотнах не застывший покой, но движение, развитие, становление. Или разрушение, разложение, деградация. Так или иначе, неподвижный холст каким-то образом отражает движение времени. Движение, схваченное моментом. Не движение людей и лошадей (застывших в порыве, как это любят показывать скульпторы), а подвижность, взрывчатость самого пространства. Как и чем это достигается? Прежде всего, деформацией изображаемых объектов и деформацией самого пространства. Уже у Сезанна кувшины за счет смелого объёмного разворота кажутся живыми. Кубизм стократ усилил этот эффект. Деформация кубистического пространства чудесным образом сплелась с деформацией времени. В жестких грёзах художников словно бы угадывался тот странный мир, который Эйнштейн вместе с математиком Минковским определили как единый четырехмерный континуум пространство-время. Случайно ли кубизм и специальная теория относительности возникли практически одновременно и, разумеется, вне какой либо связи друг с другом? Объединялось ли это в нечто единое идеями тогдашнего властителя дум Анри Бергсона, лекции которого, затаив дыхание, слушали молодые Пабло Пикассо и Жорж Брак? И случайно ли стремительно развивающуюся квантовую механику с её парадоксальной логикой один из остроумных философов в конце 20-х назвал Пикассо-физикой?
5. Ритм и резонанс. История ритмична, любил повторять Бердяев. Но на самом деле ритмична вся Вселенная. Образно говоря, Универсум – это огромная волна с массой завитушек. Лучше всего это ощущают музыканты, художники и поэты. Любой рисунок, любая картина – сгущение колебаний. Художник в конкретной работе, как минимум, выступает резонатором какого-либо фрагмента бытия. Резонансно почувствовать основной набор частот его работы – это и значит быть её подлинным зрителем. Очень многие, не чувствуя этих частот (обычно, от неподготовленности, реже – от неспособности), накручивают себе ложное понимание – от наивных схем простого узнавания изображенных предметов (это кувшин, это яблоко, это женщина, это морская пучина) до всякого рода тяжеловесных словесных интерпретаций, уводящих в сторону от простой радости созерцания. Сначала картину нужно видеть (процесс, близкий к восприятию музыки). А уже потом допустимо анализировать, рассуждать, строить словесные модели любой сложности. Лучший способ проникнуть в тайну картины старинного мастера – скопировать её. В процессе перерисовки вы рано или поздно попадёте в резонанс с мастером. Это великий миг. Вас охватит дрожь понимания и восторга. Только не нужно путать это творческое занятие с холодным ремеслом равнодушных копиистов. Вот почему открыт ещё один способ – делать свободные реплики с работ больших художников. Это весёлое дело очень полезно для души художника и для твердости его руки. Характерным примером выступают реплики Пикассо на картины Веласкеса.
6. Люди и положения. Считается, что первый лик Христа был написан евангелистом Лукой. Так или иначе, но внезапно явившаяся христианская эстетика разрешила изображать человека, явившегося с Небес. Первую тысячу лет изобразительное искусство христиан этим и занималось (стоит особенно отметить византийскую икону), не слишком, впрочем, активно. Рвануло во втором тысячелетии. Да как! В Италии это Чимабуэ и Джотто. На Руси – Феофан Грек и Андрей Рублёв. И покатилось, поехало – ранние итальянцы, Дюрер и Кранах, Ван Эйк и Брейгель, Веласкес и Сурбаран, Рубенс и Рембрандт... Естественным образом из этого выросла жанровая живопись (сценки из жизни), а также произошло вычленение самостоятельных жанров – портрета, пейзажа, натюрморта… Россия не познала собственную буржуазную революцию (буржуазную – в смысле революцию свободомыслящих горожан. К сожалению, мы и сейчас никак не можем до этого дорасти, остаёмся заложниками крестьянского сознания. Города – есть, свободомыслящих горожан – почти нет). Поэтому застывший канон иконы сопровождал нас все эти столетия. А светскую живопись (вольнодумное дитя иконописи) Россия импортировала из Европы в XVIII и XIX веках, то есть, в сущности, совсем недавно, чтобы на стыке XIX и XX веков вновь рвануть к иконе, но уже к новой иконе (Кандинский, Малевич и весь русский авангард). Но этот порыв был оборван надвигающейся катастрофой. Кстати, в реалистической русской живописи времен передвижников наблюдался очевидный парадокс, позже «не замеченный» советским искусствоведением. На холстах реалистов – Крамского, Ге, Поленова, Васнецова – появился Иисус Христос, написанный приподнято-буднично, как живой человек с сомнениями и страстями. Эта тяга к Высшему перед падением страны в пропасть сама по себе удивительна, даже загадочна (как, скажем, явление Достоевского). Советская «атеистическая» живопись продолжила эту традицию, предложив вместо Христа Ленина и Сталина, и даже не заметила подмены. Количество изображений «вождей» в «социалистической стране» было абсурдно велико – помимо картин и бюстов их портреты размещались на стенах учреждений, на деньгах, на орденах, в ежедневных газетах, в личных документах (партийные, профсоюзные, комсомольские билеты), грамотах, детских значках. На каждого жителя страны десятки, если не сотни изображений. Все были опутаны этими дьявольскими ликами с ног до головы (тут с горькой иронией можно вспомнить и татуировки на всех частях тела человека из народа). Делалось это с дьявольским расчетом, с опорой на какую-то плохо продуманную, но интуитивно ощущаемую вполне мистическую нумерологию (победить числом). Религиозный (сектантский) градус советской идеологии был необыкновенно высок (отсюда и объявленная война конкурентам-священникам). Ощущается этот градус и сегодня, словно некое реликтовое излучение. Тем не менее, у нынешней русской живописи есть своеобразный потенциал на стыке старой духовности и нового формотворчества. Он почти не используется. Его реализация зависит от воли, страсти и фантазии художников. Больше ни от кого.
7.. Вещи. В традиционной иконе (как, скажем, и в религиозной живописи ранних итальянцев) вещи, предметы встречаются, но они не имеют и не имели никакого самостоятельного значения. Значимость они приобрели позже, после буржуазной революции в живописи. Когда заказчиком живописи оказался не кардинал, не герцог, а купец, на полотна вроде бы сами собой полезли сундуки, меха, фазаны и прочая битая дичь, фрукты и серебряные кубки с вином. Потихоньку вещь приобрела самодовлеющее значение. В буржуазности этого плана нет ничего дурного. Наоборот. Презренная вещь была возвышена. И оказалось, что она может быть красивой, наполненной какой-то своей внутренней жизнью. Но вот в начале ХХ века, в пору кризиса буржуазного уклада, вещи начинают терять свою фундаментальность, свое абсолютное присутствие и превосходство. Нарисованное (написанное) яблоко – вовсе не яблоко, а, скорее, знак, сигнал. Или некий символ. То же самое следует сказать о бутылках, столах и даже о людях (уже у Сезанна они начали терять индивидуальность).
8. Знак. Знаки долгое время присутствовали на холстах скрытно, но в начале ХХ века прорвались в виде букв и цифр. Это было понятно, демократично, даже весело, но остался вопрос совместимости двух планов (так сказать, аналогового с цифровым). Противоречие сохранилось прежде всего в трактовке фона. Если мы изобразим на белом листе (холсте) фигуру человека или дерево, то нетронутый белый фон тотчас приобретет оттенок небесности и воздушности. Если на том же листе (холсте) мы изобразим букву или цифру, фон сохранит белое равнодушие газетного или книжного листа. Никакого воздуха, тем более, ветра не возникнет. Современная живопись не знает (вот уже сто лет) что у нее является фоном – небо над дальним лесом или абстрактная белизна бумаги. Однако же обрывки слов или даже осмысленные тексты всё чаще встречаются в современных работах. Слово подкралось и с этой стороны и конкурирует с линией, цветом, мазком. На живописных полотнах всё более проявлялся знаковый, символьный, виртуальный мир. При этом следует иметь в виду, что мир символа и знака и мир Высший не противостоят друг другу – это один и тот же мир, только по разному описанный, с разных сторон увиденный (здесь хорошо работает Боровский принцип дополнительности).
9. Взор внешний и внутренний. Художник Павел Челищев, оформляя у Дягилева балет на музыку Стравинского, изобразил ангела с тремя крыльями, причем третье крыло росло прямо из груди. «Где вы видели ангела с тремя крыльями? – недоуменно-возмущенно спросил Стравинский. – У ангелов не бывает трех крыльев». «А вы часто видите ангелов?» – язвительно улыбнулся Челищев. Эта гениальная реплика ведёт нас к вопросу о соотношении зрения внешнего и внутреннего. Что первичнее? Какое богаче? Ведь красота этого мира – со всеми его реалиями – открывалась людям постепенно. Попробуйте найдите лирические пейзажи с закатами и лиловыми тенями у древних египтян, у греков. Сначала должен был сформироваться взор и образ, взгляд и смысл (внутреннее), а уже потом возникали внешнее видение и его оценка. Превосходство внутреннего над внешним – ключ к пониманию тайны живописного творчества. И когда художники начала ХХ века сделали отчаянный, беспримерный рывок во внутреннее видение, многих как обожгло…На деле же художники вернулись (на новом уровне, конечно) к тем временам ранней иконы, когда изображение создавалось по законам воображения. Впрочем, у язычников – греков, египтян – воображение тоже работало. Да ещё как!
10. Бой и край. Для верующего человека Господь всегда рядом. И еще говорят: Бог, Он всё видит. Как это возможно в нашем запутанном и разветвлённом мире? Коснусь здесь только пространственного аспекта. Для четырехмерного существа наш трехмерный мир – плоскость, и он способен окинуть ее взором, как мы окидываем взглядом большую картину. Мы сразу видим всё. И Он так же. Мир для Него – экран. Мы – на краю этого экрана. Ощущение этого края наполняет нас (чаще всего тайно, подсознательно) гибельным восторгом и постоянным ощущением страха падения, азарта борьбы, необходимости сражения (прежде всего за себя высокого против себя низкого). Так что не зря сказал поэт: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю».
11. Материал. Материалом для художника стало все – доски, гвозди, гайки, шестеренки, внутренности часов и патефонов, изъеденные жучком шкафы, вещи с помойки, даже экскременты… Опять-таки весело, демократично, по-нашему, по-свойски… И все же я полагаю, что белизну холста, запах краски, льняного масла, пинена или разбавителя №2 ничем заменить нельзя. Разумеется, это можно признать устарелой романтикой. Бумага и карандаш – тоже славно, просто, понятно, а вот гравюра на дереве или линолиуме уже вызывает вопросы. А гравюра на металле? Офорты, кислоты, печатные станки, сложное оборудование – зачем такие хлопоты, когда всё можно сделать на компьютере и принтере? Компьютер многое облегчает, это правда, но теплота человеческой руки исчезает безвозвратно.
12. Рама. Ничто так не сближает картину и окно, как рама. Пройдитесь по музеям и галереям. Все картины в рамах. Почему, зачем? Подсознательное ощущение окна непреоборимо. Окна, как правило, прямоугольны. Редко встречаются круглые. То же и с картинами. Круглые встречаются, даже овальные. Но не часто. Но вот что к картине не пристало напрочь – изысканные, ассиметричные, текучие рамы окон в домах стиля «модерн», он же – «Арт-нуво». В особняках работы Федора Шехтеля или бельгийца Виктора Хорты интересно рассматривать причудливые переплеты окон. Но станковая картина проявила к этому полное равнодушие. Живописный же окоём – в малой картине или огромной – так и остался прямоугольным. Отдельно надо говорить о фреске, о расписанных стенах храма, о живописных плафонах во дворцах и театрах. В живописи не станковой живёт иное чувство выхода за пределы. И, стало быть, иное отношение к раме как к мыслимому краю. Подобрать же соответствующую раму к станковой картине – дело вполне творческое и непростое. Многие рамы портят картину, а то и убивают ее. Но как сделать, чтобы рама еще бы увеличила свет заключенного в ее пределы полотна?
13. Форма-содержание и Дух картины (эманация, послание…) Непрестанное движение человека к Высшему миру (к Богу) – это главная стрела исторического времени. Пожалуй, в наиболее ясной форме это высказал француз Тейяр де Шарден, католик и член ордена Иисуса. Христианская эстетика, сближая миры (Высший и низший, Горний и дольний), поднимает сущность и значимость предметов мира дольнего до горних высот (это могут быть деревья, здания или драпировки на иконах, а могут быть и с любовью нарисованные стоптанные башмаки Ван Гога). В итоге вышло так: в соответствии с каноном следует рисовать воображаемый Высший мир (Святое Семейство, божественные пространства, чистый свет), но художник, оказывается, имеет право с не меньшей страстностью писать предметы этого мира, даже весьма низменные. Но для целостного взгляда, характерного для христианской эстетики, ничего низменного нет. Всё достойно внимания и воссоздания. Всё принадлежит миру Божию. В эстетике (в марксистской, по крайней мере) считалось, что форма произведения определяется его содержанием. Содержание считалось главным, определяющим, а форма – это нечто вроде упаковки. Когда же форма взбунтовалась, попыталась быть независимой от содержания, когда формотворчество у художников вышло на первый план, это окрестили формализмом, с которым призывали сражаться. Но тут, при оценке этой, проявилась ошибка, аберрация. Дело в том, что содержание (не только литературного произведения, но и художественного полотна, но и музыкальной пьесы) понималось как некий рассказ о жизни – нашенской, посюсторонней. Естественно, этот рассказ автору надо во что-то упаковать. Но разве упаковка вправе быть выше самого рассказа, вплоть до полного выкидывания этого рассказа на обочину? Действительно, о чем рассказывают пятна на абстрактном полотне? Сторонникам этой простой идеи казалось, что вот – по почте приходит посылка в виде коробки. А в коробке ничего нет! Пустота! Обман! Хорошо, а о чем рассказывает соната Бетховена или ноктюрн Шопена? Можно ли их адекватно передать словами, превратить в рассказ? Если бы было возможно, то не стоило бы и музыку писать. Но в том-то и дело, что содержание понимается здесь низменно, примитивно, без учета необходимой для произведения искусства некой внутренней энергии, некой божественной эманации, некого послания. Иные художники, духовно смелые, не стесняются говорить о себе, что они – только кисточка в руках Бога. Во многом это правда. Не слыша небеса, невозможно творить. Вот почему при анализе произведения нужно видеть в нём три компоненты – форму, содержание и – самое главное – нечто напоминающее послание Свыше (это последнее и есть духовная эманация, исходящая от всякого подлинного произведения искусства). При этом не удивительно, что форма и содержание могут при этом меняться местами. В беспредметной живописи форма произведения и есть его содержание. Лишь бы в этом единстве содержания-формы ощущалось послание. Это как дуновение ветерка из открытого художником окошка.
14. Посюсторонний мир нам хорошо знаком. Но есть и высший мир, который эстетически освоило христианство, подарившее нам европейскую живопись. Но открыт он был раньше. Сначала древними египтянами, затем древними иудеями и древними греками. Но иудеи, провозгласившие единого высшего Б-га, сами запретили себе изображать его, а заодно и весь этот мир (позже этот запрет взвалил на себя и ислам). А вот греки изображали своих богов весело, удивительно талантливо, но несколько приземлено, не столько приближая людей к богам, сколько богов – к людям. Христианская эстетика, соединив в себе иудейскую глубину и страстность с эллинской открытой ученостью и утонченностью, открыла путь новому воображению. Воображение это уносило художников в мир Святого Семейства, единственно тогда для них подлинный и единственно целостный. Задумывая (пусть даже и подсознательно) некое единое живописное христианское полотно, художники все более писали (по образу и подобию) человека и окружающий его мир. На картинах Джотто вы, помимо Христа, Иуды, апостолов и ангелов, найдете городские и сельские пейзажи, дома и облака, ослов и собак, у Андрея Рублева обнаружите деревья, книги, кубки (вглядитесь, кстати, в вазу на столе в божественной «Троице». Если её вырезать отдельной картинкой, получится суровый и удивительный в своей сдержанности натюрморт, простой, как у кубистов. Нечто подобное вы потом сможете найти у Пикассо). Так постепенно стали формироваться, а потом отсоединяться и вести отдельную жизнь жанры. Имел место изначальный целостный образ, потом шла дифференциация направлений и распад на портрет, пейзаж, натюрморт, жанровые сценки и т.п., но тяга к синтезу существовала, и, наконец, синтез этот стал заметен, особенно на сломе между XIX и XX столетием (тут много чего случилось, но проще его обнаружить, например, в абстрактных опытах Кандинского, когда весь мир – и высший, и низший – слился в единую систему линий и пятен). Надо сказать, что на протяжении пяти-шести последних веков особая роль выпала жанру портрета. В окне того пространства появляется некто, равный нам. Его глаза смотрят на нас. Это надо было пережить. К этому надо было привыкнуть. Заоконное пространство мы населяем людьми и их творениями, природой, ветром, небом. Мир удваивается. Это уже одно из приглашений в параллельные миры.
На протяжении ХХ столетия и в начале XХI века пространства иконы и светской живописи неоднократно сближались. Иногда явным образом, иногда таинственным. Продолжается этот процесс и сегодня, хотя, порой, в удивительных и даже парадоксальных формах. При этом подспудно ощущается подсознательная тяга светской живописи вернуться к тому, что делает настоящая икона – отобразить мир в его целокупности, объять все небо и всю землю.
Выводом могут служить советы молодому художнику:
На мир смотреть жадно. Но с симпатией и даже с любовью.
Долго и упорно учиться. Рисовать постоянно.
В итоге собрать в кулак душу, никого больше не слушать и никому не верить на слово. Всё внешнее и чужое, навязанное учением, отбросить.
Вслушиваться в себя. Всматриваться в себя, в самую глубину. Вглядываться в небо, в звёздное небо, и соотносить себя с ним. Научиться слышать его.
И делать то, что следует делать.Наконец, последнее. Все до старости должны быть как дети. Рисовать следует всем. Это как музицировать или, хотя бы, напевать себе под нос. Это вечное и неотъемлемое свойство человека. Его особое, высокое качество. Глубинный природный талант. Умение улавливать шёпот небес. Как славно этот доброжелательный шёпот, этот судьбоносный напев вовремя услышать. Начинать рисовать никогда не поздно. В тридцать, в шестьдесят, в девяносто. Времени на рисунок не жалко, оно вернется сторицей. Запомните, рисующий человек молодеет и становится свободнее. Красивее. Добрее. И ещё. Самостоятельно рисующий человек заметно вырастает как зритель. На выставках, в музеях, при перелистывании альбомов его охватывает подлинное волнение. Для него открывается столь увлекательный мир (множество миров!), о котором (о которых!) он ранее и не подозревал. И он все больше начинает чувствовать себя человеком.

